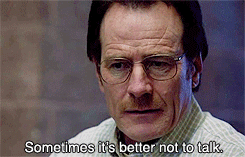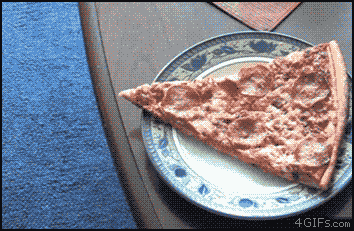Автор: fandom Harry Potter 2012
Пейринг/Персонажи: Гарри Поттер и все-все-все
Категория: джен, гет, слэш
читать дальше
1. Подойти к остановке именно в тот момент, когда подъезжает твоя маршрутка
2. Проснуться за час до звонка будильника, понять, что еще уйма времени и снова лечь спать
3. Не спать (и не хотеть!) до рассвета
4. Горячий душ после того, как ты по каким-то причинам не мылся очень долгое время
5. Трогать волосы после стрижки
6. Идеальная параллельная парковка с первого раза
7. Понять фразу на языке, которого ты не знаешь. Высший пилотаж – ответить на нее случайно всплывшей в голове цитатой
8. Когда тебе мигнули аварийкой за то, что ты их пропустил
9. Полный холодильник вкусностей, которые остались после праздников
10. Утро, в которое ты понимаешь, что у тебя теперь есть права и ты можешь сесть в машину и поехать туда, куда нужно. Сам.
11. Когда тебе мигают на трассе и ты успеваешь сбросить скорость перед гаишником
12. Когда утром просыпаешься и думаешь, черт, уже час, как на работе надо быть! А следующая мысль: сегодня же воскресенье!
13. Сделать последнее дело из кучи мелких дел, которые всегда откладывал
14. Прокатиться на тележке из супермаркета
15. Дед мороз с настоящей бородой
16. Ковыряться в ушах ватными палочками
17. Хруст снега
18. Когда лифт уже стоит на твоем этаже
19. Когда рядом с тобой в магазине открывают новую кассу и ты успеваешь как раз первым
20. Когда ты безумно устал и уже готов заснуть, возможно, не в самом подходящем месте и тут кто-нибудь накрывает тебя пледом
21. Мышечная боль после спортзала
22. Гости, перед приходом которых не нужно убирать квартиру
23. Издалека попасть точно в мусорное ведро
24. Есть то, что тебе запрещали, когда ты был ребенком
25. Надеть то, что ты только что купил
26. Заскочить в уходящий поезд
27. Запах свежей выпечки
28. Попасть в зеленую волну на светофорах
29. Отколупнуть болячку
30. Запах дождя, падающего на горячий асфальт
31. Первым вспомнить, из какого же фильма этот актер или мелодия
32. Когда после самолета или бассейна (или и того и другого вместе) заложенное ухо наконец начинает слышать
33. После целого дня снять ботинки, которые жмут
34. Когда очередь как раз после тебя вырастает до гигантских размеров
35. Случайно где-нибудь встретить запах из детства
36. В теплый вечер высунуть руку из машины
37. Разгадать сложную задачку в квесте
38. Когда рядом с тобой в самолете оказываются два свободных места
39. Когда ты доехал на машине до места как раз в тот момент, когда по радио закончилась отличная песня
40. Когда тебе удалось все-таки выдавить последнюю порцию пасты из безнадёжного тюбика
41. Стук женских каблуков по асфальту, который доносится весной из открытого окна
42. Выходить из самолета на трап в какой-нибудь теплой стране.
43. Снова и снова слушать песню, которая тебе недавно понравилась
44. Когда ты вдруг вспоминаешь, каким маленьким было это дерево в твоем детстве
45.Наблюдать в ресторане, как после некоторого ожидания несут твой заказ, -
вплоть до того момента, как он оказывается на столе
46. Увидеть, как девятки сменяются нолями на одометре
47. Когда твой босс пораньше ушел с работы
48. Последние секунды распутывания огромного узла
49. Когда яйцо легко чистится
50. Найти на дне ящика носок, который подходит к только что выстиранному одинокому экземпляру

Наглядный пример движения испуганной толпы на примере кучки кошек.
много котов не бывает
Пишет Taho:
Всем худеющим, голодным и страдающим посвящается!
Начало
Однажды ты сидишь такая перед теликом...

А в телике такое показывают
читать дальше
Классика | Не Бест? Пришли лучше!
 Я в трансе.....*улетела*
Я в трансе.....*улетела*


Очень заинтриговал...что-то в нём определённо есть...кроме секса...XDD

«Она не способна отказаться от секса»
...так мило...("
 ^_^("
^_^("
И где только отрыл такой раритет?! =)

Это офигенно!Он офигенный!

о, ютуб ^^
А я всё болею...хожу через раз...может завтра сходить??=)
Корейцы такие лапочки...а как говорят...ммм)))
Ну в плане по Минску конечно....было ооооочень вкусно...спасибочки!!!))
1. "Ну и прекрасно!"
Это слово женщины обычно используют в самом конце спора – когда они правы, а вам нужно заткнуться.
2. "Я быстро! Пять минут!"
Эта фраза может трактоваться двояко. Если женщина произнесла ее до того, как начать готовиться к выходу из дома, "пять минут" приравнивается к получасу. А вот если вам дали только пять минут, чтобы досмотреть первый тайм футбольного матча перед тем, как начать "помогать по дому", будьте уверены – это будут ровно пять минут!
3. "Ничего не случилось"
А вот это уже затишье перед бурей. Это "ничего" явно что-то означает, так что будьте начеку. Ссоры, которые начинаются с "ничего не случилось", обычно заканчиваются "прекрасно" (см. п.1).
4. "Ну-ну, продолжай"
Это – вызов, а не разрешение. Так что ни в коем случае не продолжайте!
5. Тяжелый громкий вздох
Это невербальное заявление часто неправильно понимается мужчинами. Громкий вздох означает примерно следующее: она считает вас полным кретином и не понимает, почему вообще тратит время на то, чтобы стоять тут и спорить с вами ни о чем (см. п. 3).
6. "Все хорошо"
Одно из самых опасных заявлений, которое только мужчина может услышать от женщины. "Все хорошо" означает, что она берет тайм-аут, чтобы придумать, когда и каким образом вы поплатитесь за свою ошибку.
7. "Спасибо"
Если женщина сказала вам спасибо, не спрашивайте за что. Просто скажите ей – "не за что". Есть, правда, тонкий момент: если вместо простого "спасибо" вы услышите "спасибо большое!"( с ударением на слово "большое"
 , то должны тут же заметить тонкий сарказм, звучащий в ее голосе. После этого ни за что на свете не говорите "не за что". Иначе получится "неважно" (см. далее).
, то должны тут же заметить тонкий сарказм, звучащий в ее голосе. После этого ни за что на свете не говорите "не за что". Иначе получится "неважно" (см. далее).8. "Неважно"
Это – изящный женский способ послать мужчину туда, куда Макар телят не гонял.
9. "Не беспокойся, я сама..."
Еще одно угрожающее заявление, чаще всего говорится в тот момент, когда женщина уже несколько раз попросила мужчину что-то сделать (выбросить мусор, собрать валяющиеся по дому носки, прибить гвоздь), обнаружила, что он даже не привстал с кресла, и начала делать все сама. Позднее эта ситуация выльется в глупый мужской вопрос "Что не так?" и женский ответ под номером 3.
Ливень хлестал все сильнее, но Чарльз шел, не разбирая дороги и не обращая внимания на потоки дождя. Он жаждал темноты, забвения; ему хотелось стать невидимым, чтобы наконец успокоиться. Но неожиданно для себя он очутился в самом сердце того квартала с темной репутацией, о котором я рассказывал выше. Как обычно бывает в сомнительных, темных местах, там было полно света и вовсю кипела жизнь: лавки и таверны ломились от посетителей, вподворотнях укрывались от дождя прохожие. Он свернул в боковую улочку, круто спускавшуюся к реке. Улица представляла собою два ряда каменных ступеней,покрытых слоем нечистот и разделенных сточной канавой. Но там по крайней меребыло тихо и безлюдно. Впереди, на углу, он увидел красный кирпичный фасаднебольшой церкви; и внезапно его потянуло туда, в священное уединение. Онтолкнул входную дверь, настолько низкую, что, переступая порог, он должен был нагнуться. За дверью начинались ступеньки, которые вели вверх – церковноепомещение располагалось выше уровня улицы. На верхней ступеньке стоял молодой священник, который как раз собирался загасить последнюю газовую горелку и былявно удивлен неурочным визитом.
– Я уже запираю на ночь, сэр.
– Могу ли я просить вас позволить мне несколько минут помолиться?
Священник, успевший привернуть горелку, вывернул ее снова и смерил запоздалого клиента испытующим взглядом. Несомненно, джентльмен.
– Я живу через дорогу отсюда. Дома меня ждут. Если выне сочтете за труд запереть входную дверь и принести мне ключ… – Чарльз наклонил голову в знак согласия, и священник спустился к нему вниз. –Таково распоряжение епископа. По моему скромному разумению, двери дома Божьегодолжны быть открыты днем и ночью. Но у нас тут ценное серебро… Какие времена!
И Чарльз остался в церкви один. Он слышал, как священник переходит мостовую; когда шаги затихли, он закрыл дверь на ключ изнутри иподнялся наверх по лестнице. В церкви пахло свежей краской. В свете единственной газовой горелки тускло поблескивала подновленная позолота; но темно‑красные массивные готические своды говорили о древности церковных стен.Чарльз прошел вдоль центрального прохода, присел на скамью где‑то в средних рядах и долго смотрел сквозь резную деревянную решетку на распятие над алтарем.Потом опустился на колени, упершись судорожно сжатыми руками в покатый бортик передней скамьи, и шепотом прочел «Отче наш».
И снова, как только ритуальные слова были произнесены,нахлынул мрак, пустота, молчание. Чарльз принялся экспромтом сочинять молитву,подходящую к его обстоятельствам: «Прости мне, Господи, мой слепой эгоизм.Прости мне то, что я нарушил заповеди Твои. Прости, что я обесчестил иосквернил себя, что слишком мало верую в Твою мудрость и милосердие. Прости инаставь меня, Господи, в муках моих…» Но тут расстроенное подсознание решило сыграть с ним скверную шутку – перед ним возникло лицо Сары, залитое слезами,страдальческое, в точности похожее на лик скорбящей Богоматери кисти Грюневальда, которую он видел – в Кольмаре? Кобленце? Кельне? – он не мог вспомнить где. Несколько секунд он тщетно пытался восстановить в памяти название города: что‑то на букву "к"… потом поднялся с колен и сновасел на скамью. Как пусто, как тихо в церкви. Он не отрываясь смотрел нараспятие, но вместо Христа видел Сару. Он начал было опять молиться, но понял,что это безнадежно. Его молитва не могла быть услышана. И по щекам у него вдругпокатились слезы.
Почти всем викторианским атеистам (за исключениеммалочисленной воинствующей элиты под предводительством Брэдлоу) и агностикам было присуще сознание, что они лишены чего‑то очень важного, что у них отнятнекий дар, которым могут пользоваться остальные. В кругу своих единомышленниковони могли сколько душе угодно издеваться над несуразицей церковных обрядов, надбессмысленной грызней религиозных сект, над живущими в роскоши епископами иинтриганами канониками, над манкирующими своими обязанностями пасторами и получающими мизерное жалованье священниками более низкого ранга, над безнадежноустаревшей теологией и прочими нелепостями; но Христос для них существовал –вопреки всякой логике, как аномалия. Для них он не мог быть тем, чем стал для многих в наши дни, – фигурой полностью секуляризованной, историческиреальной личностью, Иисусом из Назарета, который обладал блестящим даромобразной речи, сумел при жизни окружить себя легендой и имел мужество поступать сообразно со своим вероучением. В викторианскую эпоху весь мир признавал его божественную суть; и тем острее воспринимал его осуждение неверующий. Мы, снашим комплексом вины, отгородились от уродства и жестокости нашего века небоскребом правительственных учреждений, распределяющих в общегосударственном масштабе пособия и субсидии; у нас благотворительность носит сугубо организованный характер. Викторианцы жили в куда более близком соседстве с повседневной жестокостью, сталкивались с ее проявлениями не в пример чаще нас;просвещенные и впечатлительные люди того времени в гораздо большей мере ощущали личную ответственность; тем тяжелее было в тяжелые времена отвергнуть Христа –этот вселенский символ сострадания.
В глубине души Чарльз не был агностиком. Просто, неиспытывая прежде нужды в вере, он привык прекрасно обходиться без нее – и тем самым без ее догматов; и доводы его собственного разума, подкрепленные авторитетом Лайеля и Дарвина, до сих пор подтверждали его правоту. И вот теперь он лил бессильные слезы, оплакивая не столько Сару, сколько свою неспособностьобратиться к Богу – и быть услышанным. Здесь, в этой темной церкви, он осознал вдруг, что связь прервалась. Никакое общение невозможно.
Тишину нарушил громкий стук. Чарльз обернулся, поспешнопромокнув глаза рукавом. Но тот, кто сделал попытку войти, понял, видимо, чтоцерковь уже заперта; и Чарльзу показалось, что это уходит прочь отвергнутая,неприкаянная часть его самого. Он встал и, заложив руки за спину, принялся мерить шагами проход между скамьями. С могильных плит, вделанных в каменныйпол, на него смотрели полустершиеся имена и даты – последние окаменелые остаткичьих‑то жизней. Может быть, то, что он попирал эти камни ногами со смутным сознанием кощунства, а может быть, пережитый им приступ отчаяния – только что‑то в конце концов отрезвило его, и мысли его прояснились. И мало‑помалу спор,который он вел с самим собой, начал обретать членораздельную форму искладываться в диалог – то ли между лучшей и худшей сторонами его "я", то ли между ним и тем, чье изображение едва виднелось в полутьменад алтарем.
С чего начать?
Начни с того, что ты совершил, друг мой. И перестань сокрушаться об этом.
Я совершил это не по своей воле. Я уступил давлению обстоятельств.
Каких именно обстоятельств?
Я стал жертвой обмана.
Какую цель преследовал этот обман?
Не знаю.
Но предполагаешь?
Если бы она истинно любила меня, она не могла бы так просто отказаться от меня.
Если бы она истинно любила тебя, разве могла бы она и дальше обманывать тебя?
Она отняла у меня возможность выбора. Она сама сказала, чтобрак между нами невозможен.
И назвала причину?
Да. Разница в нашем положении в обществе.
Что ж, весьма благородно.
И потом Эрнестина. Я дал ей клятвенное обещание.
Ты уже разорвал свою клятву.
Я постараюсь восстановить то, что разорвано.
Что же свяжет вас? Любовь или вина?
Неважно что. Обет священен.
Если неважно, то обет не может быть священен.
Я знаю, в чем состоит мой долг.
Чарльз, Чарльз, я читал эту мысль в самых жестоких глазах.Долг – это глиняный сосуд. Он хранит то, что в него наливают, а это может бытьвсе что угодно – от величайшего добра до величайшего зла.
Она хотела избавиться от меня. У нее в глазах было презрение.
А знаешь, что делает сейчас твое Презрение? Льет горькие слезы.
Я не могу вернуться к ней.
И ты думаешь, что вода смоет кровь с чресел твоих?
Я не могу вернуться к ней.
А пойти с ней на свидание в лесу ты мог? А задержаться в Эксетере мог? И мог явиться к ней в гостиницу? И позволить прикоснуться к твоей руке? Кто заставлял тебя все это делать?
Виноват! Я согрешил. Но я попал в ловушку.
И так быстро сумел освободиться от нее?
Но на это Чарльз ответить не смог. Он снова сел на скамью исудорожно сцепил пальцы, так что суставы их побелели: и все смотрел, смотрел вперед, во мрак. Но голос не унимался.
Друг мой, тебе не приходит в голову, что есть только одна вещь на свете, которую она любит больше, чем тебя? Постарайся понять: именно потому, что она истинно любит тебя, она хочет подарить тебе то, что любит еще больше. И я скажу тебе, отчего она проливает слезы: оттого, что у тебя недостает мужества принести ей в ответ тот же дар.
Какое право она имела подвергать меня столь жестокомуиспытанию?
А какое право имел ты родиться на свет? Дышать? И жить вдовольстве?
Я всего лишь воздаю кесарю…
Кесарю – или мистеру Фримену?
Это обвинение низко.
А что ты воздаешь мне? Это и есть твоя дань? Ты вбиваешь владони мне гвозди.
Да позволено мне будет заметить – у Эрнестины тоже есть руки; и она страдает от боли.
Руки, говоришь? Интересно, что написано у нее на руке.Покажи мне ее ладонь! Я не вижу в ее линиях счастья. Она знает, что нелюбима.Ее удел – быть обманутой. И не единожды, а многократно, изо дня в день – покадлится ее замужняя жизнь.
Чарльз уронил руки на спинку передней скамьи и зарылся в нихлицом. У него было почти физическое ощущение раздвоенности, при которойвозможность активно сопротивляться уже отнята: он беспомощно барахтался в водовороте потока, разделяющегося на два рукава и готового скрутить и унести его вперед, в будущее – по своему, а не по его выбору.
Мой бедный Чарльз, попытай собственное сердце: ведь ты хотел, не правда ли, когда приехал в этот город, доказать самому себе, что не стал еще пожизненным узником своего будущего. Но избежать этой тюрьмы с помощью одного только решительного поступка так же невозможно, как одолеть одним шагом путь отсюда до Иерусалима. Этот шаг надо совершать ежедневно, мой друг,ежечасно. Ведь молоток и гвозди всегда наготове; они только ждут подходящей минуты. Ты знаешь, перед каким выбором стоишь. Либо ты остаешься в тюрьме,которую твой век именует долгом, честью, самоуважением, и покупаешь этой ценой благополучие и безопасность. Либо ты будешь свободен – и распят. Наградой тебе будут камни и тернии, молчание и ненависть; и города, и люди отвернутся оттебя.
Я слишком слаб.
Но ты стыдишься своей слабости.
Что пользы миру в том, если я сумею пересилить свою слабость?
Ответа не было. Но что‑то заставило Чарльза подняться и подойти к алтарю. Сквозь проем в деревянной решетке он долго смотрел на крест над алтарем; потом, не без некоторого колебания, прошел внутрь и, миновав места для певчих, стал у ступенек, ведущих к алтарному возвышению. Свет, горевший на другом конце церкви, сюда почти не проникал. Чарльз едва различал лицо Христа,но испытывал сильнейшее, необъяснимое чувство сродства, единства. Ему казалось,что к кресту пригвожден он сам – разумеется, он не отождествлял свои мучения с возвышенным, символическим мученичеством Иисуса, однако тоже чувствовал себя распятым.
Но не на кресте – на чем‑то другом. Его мысли о Саре принимали иногда такое направление, что можно было бы предположить, будто онпредставлял себя распятым на ней; но подобное богохульство – и в религиозном, и в реальном смысле – не приходило ему в голову. Он ощущал ее незримоеприсутствие; она стояла вместе с ним у алтаря, словно готовясь к брачному обряду, но на деле с иною целью. Он не сразу мог выразить эту цель словами, но через какую‑то секунду вдруг понял.
Снять с креста того, кто распят!
Внезапное озарение открыло Чарльзу глаза на истинную сущность христианства: не прославлять это варварское изображение, не простираться перед ним корысти ради, рассчитывая заработать искупление грехов;но постараться изменить мир, во имя которого Спаситель принял смерть на кресте;сделать так, чтобы он мог предстать всем живущим на земле людям, мужчинам и женщинам, не с искаженным предсмертной мукой лицом, а с умиротворенной улыбкой,торжествуя вместе с ними победу, свершенную ими и свершившуюся в них самих.
Стоя перед распятием, он впервые до конца осознал, что его время – вся эта беспокойная жизнь, железные истины и косные условности,подавленные эмоции и спасительный юмор, робкая наука и самонадеянная религия,продажная политика и традиционная кастовость – и есть его подлинный враг,тайный противник всех его сокровенных желаний. Именно время обмануло его,заманило в ловушку… время, которому чуждо было само понятие любви, свободы… но оно действовало бездумно, ненамеренно, без злого умысла – просто потому, что обман коренился в самой природе этой бесчеловечной, бездушной машины. Он попал в порочный круг; это и есть его беда, несостоятельность, неизлечимая болезнь,врожденное уродство, все, что ввергло его в полное ничтожество, когда реальность подменилась иллюзией, слова – немотой, а действие – оцепенелостью…Да еще эти окаменелости!
Он при жизни превратился в подобие мертвеца.
Он стоит на краю бездонной пропасти.
И еще одна вещь не давала ему покоя. Как только он вошел в эту церковь, его охватило – и уже не покидало – странное чувство, появлявшееся,впрочем, всякий раз, как он входил в пустую церковь: чувство, будто он здесь неодин. Он ощущал у себя за спиной молчаливое присутствие целой многолюдной толпы прихожан. Он даже оглянулся назад.
Никого. Пустые ряды скамей.
И Чарльза пронзила мысль: если бы со смертью все и вправдукончалось, если бы загробной жизни не было, разве я тревожился бы о том, что подумают обо мне те, кого нет на свете? Они не знали бы и не могли судить.
И тут же он сделал большой скачок: они и не знают, и немогут судить. Надо сказать, что столь смело отринутая Чарльзом гипотеза насчетконтроля со стороны усопших не давала покоя его современникам и наложила тягостный отпечаток на всю эпоху. Ее весьма четко изложил Теннисон впятидесятой главке «In Memoriam». Послушайте:
Хотим ли мы, чтоб те, кого мы
Оплакали и погребли,
Не покидали сей земли?
Сомненья эти всем знакомы.
Нам не дает покоя страх,
Что нам пред ними стыдно будет,
Что нас усопшие осудят,
Что упадем мы в их глазах.
Когда б ответ держать пришлось,
Ничто бы не было забыто…
Должно быть, мудрость в смерти скрыта,
И мертвым мы видны насквозь.
Они на нас взирают строго,
Пока идем земным путем;
Но снисхождения мы ждем
От наших мертвых – и от Бога.
«Должно быть, мудрость в смерти скрыта, и мертвым мы видны насквозь». Все существо Чарльза восставало против этих двух мерзостных положений, против макабрического стремления идти в будущее задом наперед,приковав взор к почившим праотцам, – вместо того чтобы думать о еще нерожденных потомках. Ему казалось, что его былая вера в то, что прошлое продолжает призрачно жить в настоящем, обрекла его – и он только сейчас осознал это – на погребение заживо.
Этот мысленный скачок не был, однако, поворотом к безбожию:Христос не потерял в глазах Чарльза своего величия. Скорее наоборот: он ожил и приблизился; он сошел для него с креста – если не полностью, то хотя бы частично. Чарльз повернулся спиной к деревянному изображению, потерявшему для него всякий смысл, – но не к самому Иисусу. Он вышел из алтарной ограды ивновь принялся расхаживать по проходу, глядя на каменный пол. Перед его взором возник теперь совершенно новый мир: иная реальность, иная причинная связь, иное мироздание. В его мозгу проносились чередой вполне конкретные картины будущего– если хотите, иллюстрации к новой главе его воображаемой автобиографии. Это были вдохновенные минуты. Но подобный миг высшего взлета, как правило, длится недолго – если помните, миссис Поултни потратила каких‑нибудь три секунды (почасам в ее собственной гостиной – мрамор и золоченая бронза, антикварная вещь?)на путь от вечного спасения до леди Коттон. И я погрешил бы против правды, если бы скрыл, что как раз в эти минуты Чарльз вспомнил о своем дядюшке. Он был далек от того, чтобы возлагать на сэра Роберта ответственность за свойсобственный расстроившийся брак и за возможный скандальный мезальянс; но онзнал, что сэр Роберт сам станет корить себя. Его воображению представилась еще одна непрошеная сценка: Сара и леди Белла. Странно сказать, он видел, кто в этом поединке поведет себя более достойно; если бы на месте Сары была Эрнестина, она сражалась бы с леди Беллой ее же оружием, тогда как Сара… ее глаза… они знали, чего стоят любые колкости и оскорбления, они могли безмолвно проглотить – и поглотить их, превратить в ничтожные пылинки в бескрайнейнебесной лазури!
Одеть Сару! Повезти ее в Париж, во Флоренцию, в Рим!
Вряд ли уместно будет сейчас ввести сравнение со святым Павлом на пути в Дамаск.Но Чарльз остановился – увы, опять‑таки спиной калтарю, – и лицо его озарилось неким сиянием. Может быть, это был просто отсвет газовой горелки при входе; и если он не сумел придать обуревавшим его благородным, но несколько абстрактным мыслям подобающую зримую форму, не будем его строго судить. Он мысленно увидел Сару стоящей под руку с ним в Уффици;вам это может показаться банальным, однако для Чарльза это был символ,квинтэссенция жестокой, но необходимой (если мы хотим выжить – это условие действует и сегодня) свободы.
Он повернулся и направился к скамье, где сидел раньше; и поступил вдруг вопреки рациональной логике – опустился на колени и произнес молитву, правда, короткую. Потом подошел к выходу, убавил в лампе газ, оставивтолько чуть видный язычок пламени, похожий на блуждающий огонек, и покинул церковь.
Они лежали словно парализованные тем, что произошло.Застывшие в грехе, окоченевшие от наслаждения. Чарльз – его охватила непресловутая тихая печаль, наступающая после соития, а немедленный, вселенский ужас – был как город, на который с ясного неба обрушилась атомная бомба. Всесравнялось с землей, все превратилось в прах: принципы, будущее, вера, благиенамерения… Но он уцелел, он сохранил этот сладчайший дар – жизнь; и осталсяодин‑одинешенек, последний живой человек на земле… но радиоактивность вины,медленно и неудержимо, начала уже проникать в его тело, расползаться по нервам ижилам. Где‑то вдали, в полутьме, возникла Эрнестина; она смотрела на него соскорбной укоризной. Мистер Фримен ударил его по лицу… они стояли, точнокаменные изваяния, неподвижные, праведно‑неумолимые.
Он приподнялся, чтобы дать Саре отодвинуться, потом повернулсяна спину и лег; она прильнула к нему, положив голову ему на плечо. Он молча смотрел в потолок. Что он натворил, Боже, что он натворил!
Он теснее прижал ее к себе. Она робко протянула руку, и их пальцы снова сплелись. Дождь перестал. Где‑то под окном прозвучали шаги –неторопливая, тяжелая, мерная поступь. Скорее всего полицейский. Блюститель Закона.
Чарльз сказал:
– Я хуже, чем Варгенн. – В ответ она только крепчесжала его руку, словно возражая ему и успокаивая. Но он был мужчина. – Что теперь с нами будет?
– Я не хочу думать даже о том, что будет через час.
Он обнял ее за плечи, поцеловал в лоб; потом снова поднялглаза к потолку. Она казалась такой юной, такой потрясенной.
– Я должен расторгнуть свою помолвку.
– Я ни о чем не прошу. Как я могу? Я сама во всем виновата.
– Вы предостерегали меня, предупреждали… Нет, виноват во всем только я. Я знал, когда пришел… но предпочел закрыть глаза. Я отрекся от всех своих обязательств.
Она прошептала:
– Я так хотела. – И повторила снова, тихо и печально: – Да, я так хотела.
Он стал молча гладить и перебирать ее волосы. Они рассыпались по плечам, закрыли сквозной завесой ее лицо.
– Сара… какое волшебное имя.
Она ничего не ответила. Еще минута прошла в молчании; его рука продолжала нежно гладить ее волосы, как будто рядом с ним был ребенок. Номысли его были заняты другим. Словно почувствовав это, она проговорила:
– Я знаю, что вы не можете на мне жениться.
– Я должен это сделать. Я этого хочу. Я не смогувзглянуть себе в лицо, если не женюсь на вас.
– Я поступила дурно. Я давно мечтала об этом дне… Я не достойна стать вашей женой.
– Дорогая моя!..
– Ваше положение в свете, ваши друзья, ваша… да, и она– я знаю, она вас любит. Кому как не мне понять ее чувства?
– Но я больше не люблю ее!
Она подождала, покуда страстность, с которой он выкрикнул эти слова, перетечет в молчание.
– Она достойна вас. Я – нет.
Наконец он начал понимать, что она говорит всерьез. Он повернулк себе ее лицо, и в слабом уличном свете они взглянули друг другу в глаза. Их выражение не мог скрыть даже полумрак: в глазах Чарльза был написан панический ужас; она глядела спокойно, с едва заметной улыбкой.
– Не хотите же вы сказать, что я могу просто встать и уйти, как если бы между нами ничего не произошло?
Она промолчала, но ответ он прочел в ее глазах. Он приподнялся на локте.
– Вы не можете все простить мне. И ни о чем не просить.
Она откинулась головой на подушку, устремив взгляд в какое‑то темное будущее.
– Отчего же нет, раз я люблю вас?
Он снова привлек ее к себе. От одной мысли о подобной жертвена глаза у него навернулись слезы. Как чудовищно несправедливо судили о ней и сам он, и доктор Гроган! Она выше, благороднее, великодушнее их обоих. На миг Чарльза охватило презрение к собственному полу – к чисто мужской банальности,легковерности, мелочному эгоизму. Но принадлежность к сильной половине человечества тут же подсказала ему избитую, трусливую увертку: что если этот эпизод – последняя дань увлечениям молодости? Ведь каждому положено перебеситься, прежде чем окончательно остепениться… Но стоило этой мысли пронестись у него в голове, как он почувствовал себя убийцей, которому из‑закакого‑то просчета в процедуре обвинения ошибочно вынесен оправдательный приговор. Да, он оправдан по суду, он волен идти на все четыре стороны, но он виновен и навечно осужден в собственном сердце.
– Я не узнаю себя. Я стал другим.
– Мне тоже кажется, что я другая. Это потому, что мы согрешили. И не верим, что согрешили. – Она произнесла эти слова, какбудто глядя в бесконечность ночи. – Я хочу только счастья для вас. Явсегда буду помнить, что был такой день, когда вы любили меня… и я смогу теперьсмириться с чем угодно… с любой мыслью… кроме мысли о вашей смерти.
Он снова привстал и пристально взглянул ей в лицо. В ее глазах все еще пряталась едва заметная улыбка, улыбка удовлетворенного знания –духовный или психологический эквивалент того удовлетворения, которое ощутил Чарльз, познав ее физически. Никогда прежде он не испытывал такого чувства близости, такого полного единения с женщиной. Он наклонился и поцеловал ее – из самых чистых побуждений, хотя, прижавшись к ее жарким губам, почувствовал, чтов нем опять просыпаются иные побуждения, уже не столь невинные… Чарльз неотличался от большинства викторианцев. Мысль о том, что порядочная,благовоспитанная женщина, унижая себя в угоду мужской похоти, сама можетполучать удовольствие, просто не укладывалась у него в голове. Он и такдостаточно злоупотребил ее чувствами; больше он этого не до пустит. И прошло уже столько времени… который час? Он поднялся и сел на постели.
– Эта особа там, внизу… и мой слуга ждет в гостинице.Прошу вас, дайте мне день‑два сроку. Я должен подумать, решить…
Не открывая глаз, она сказала;
– Я недостойна вас.
Он посмотрел на нее еще секунду, встал с кровати и вышел впервую комнату.
И там… Это было как удар грома.
Начав одеваться, он вдруг заметил на рубашке спереди пятно.Он подумал, что чем‑то оцарапался, и украдкой осмотрел себя – но ни боли, ниссадин не было. Тогда он судорожно вцепился в спинку кресла и застыл, неотрывая глаз от двери в спальню: он понял наконец то, о чем давно уже догадалсябы более опытный – или менее пылкий – любовник.
Она была девственница!
Из спальни послышалось какое‑то движение. Голова у него шла кругом; он был ошарашен, ошеломлен – и с поспешностью отчаяния стал натягиватьна себя одежду. Из‑за двери доносились приглушенные, звуки – в умывальнике заплескалась вода, звякнула фаянсовая мыльница… Она не отдалась тогда Варгенну.Она солгала. Все ее слова, все поступки в Лайм‑Риджисе были построены на лжи.Но для чего? Для чего? Чего ради?
Это шантаж!
Она хочет приобрести над ним неограниченную власть.
И все уродливые, дьявольские порождения мужского ума – вековечный глупый страх перед армией женщин, вступивших в тайный сговор с целью высосать из них все соки, погубить их мужское естество, использовать их идеализм в корыстных целях, перетопить их в воск и вылепить из них нечто несусветное в угоду своим злокозненным фантазиям – все это, в купе с отвратительными свидетельствами, которые приводились в апелляции по делу ЛаРонсьера и в правдоподобии которых теперь не приходилось сомневаться, повергло Чарльза в поистине апокалипсический ужас.
Плесканье воды прекратилось. Он услышал шаги, какой‑то шорох– вероятно, она снова легла в постель. Уже одетый, он стоял, неподвижно уставясь в огонь. Да, его заманили в ловушку; вокруг него стягивалась дьявольская сеть; какой‑то злой дух руководил поступками этой безумицы… Но зачем все это? Для чего?
Скрипнула дверь. Он обернулся; и на его лице она могла прочесть все обуревавшие его мысли. Она стояла на пороге спальни, одетая в своепрежнее темно‑синее платье, но еще с распущенными волосами – и с прежним оттенком вызова во взгляде: на секунду он вспомнил тот день, когда набрел нанее, спящую, в лесу, – в тот раз, стоя на скалистом уступе над морем, она смотрела на него снизу вверх с похожим выражением. По‑видимому, она догадалась,что он уже знает правду; и снова предвосхитила готовое сорваться с его устобвинение, выбила почву у него из‑под ног.
Она повторила свои предыдущие слова:
– Я недостойна вас.
И теперь он с этим согласился. Он прошептал:
– А как же Варгенн?..
– Когда я приехала в Уэймут и пошла туда, где – помните– где он остановился… то, не дойдя еще до дверей таверны, я увидела его. Он выходил. И не один. Он был с женщиной. С женщиной определенного сорта – тут нельзя было ошибиться. – Она отвела глаза, избегая его бешеного взгляда. – И я… я спряталась в подворотне. И когда они скрылись, ушла.
– Но почему же вы мне сказали…
Она быстро шагнула к окну. И тут он онемел. Она не хромала!Нога у нее вовсе не болит! Не было никакого вывиха! Она взглянула на него черезплечо и поняла, что он осуждает ее и за это; потом отвернулась к окну.
– Да. Я обманула вас. Но больше я вас не потревожу.
– Но как же… что я… почему…
Запутанный клубок! Сплошные тайны!
Она молча стояла перед ним. Утихший было дождь возобновился с новой силой. В ее прямом, спокойном взгляде он уловил не только прежний вызов, но и какое‑то новое, более мягкое выражение – напоминание об их недавней близости. И ощущение дистанции смягчилось, хоть и не исчезло.
– Я благодарна вам. Вы подарили мне утешительное сознание того, что в ином мире, в иной жизни, в иное время я могла бы стать вашей женой.Вы дали мне силы продолжать жить… здесь и сейчас. – Их разделяли какие‑нибудь десять футов, но ему казалось, что между ними добрый десяток миль. – Но водном я вас никогда не обманывала. Я полюбила вас… по‑моему, с первой минуты.Тут никакого обмана не было. Вас могло ввести в заблуждение только мое одиночество. Обида, зависть… не знаю, что мною руководило. Не знаю. – Она снова отвернулась к окну, к стене дождя за ним. – Не спрашивайте меня опричинах. Объяснить их я не могу. Они необъяснимы.
Наступило напряженное молчание. Чарльз молча смотрел ей вспину. Совсем недавно он чувствовал, что какая‑то волна неудержимо мчит его к ней; и точно так же сейчас его неудержимо несло прочь. Тогда она влекла его,теперь отталкивала – и оба раза виновата была она одна.
– Я не могу удовлетвориться этой отговоркой. Я требую объяснений.
Но она покачала головой.
– Пожалуйста, оставьте меня. Я молюсь о вашем счастии.Больше я ему не помешаю.
Он не двинулся с места. Через одну‑две секунды онаобернулась и снова, как раньше, прочла его тайные мысли. Ее лицо выражало спокойствие, похожее на обреченность.
– Я прежде уже говорила вам. Я гораздо сильнее, чем можно было бы вообразить. Моя жизнь кончится тогда, когда придет ее естественный конец.
Еще несколько секунд он выдерживал ее взгляд, потом взял с комода трость и шляпу.
– Что ж, поделом награда! За то, что я попытался вам помочь… Что стольким рисковал… И каково узнать теперь, что все это время вы меня дурачили, что я был не более чем игрушкой ваших странных фантазий!
– Сегодня меня заботило только собственное счастье.Если бы нам довелось встретиться опять, меня заботило бы только ваше. А счастья со мной у вас не может быть. Вы не можете на мне жениться, мистер Смитсон.
Этот внезапно официальный тон глубоко задел его. Он кинул нанее взгляд, выражавший и боль, и обиду, но она успела предусмотрительно повернуться к нему спиной. Он в гневе шагнул вперед.
– Как вы можете обращаться ко мне подобным образом? –Она промолчала. – Ведь я прошу вас только об одном: я хочу понять, почему…
– Заклинаю вас – уходите!